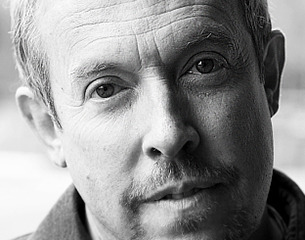Андрей Макаревич был и остается чрезвычайно продуктивным: в прошлом году он завершил мировое турне со своим проектом «Идиш-Джаз», а в мае этого года презентовал новый альбом «Вы». В эксклюзивном интервью Jewish.ru Андрей Макаревич рассказал, какие песни вызывают в нём вибрацию и резонанс, и объяснил, почему он перестал говорить о политике, остается в России и не уезжает в Израиль
Какой год в своей жизни вы считаете самым интересным,
начиная, собственно, с 1953-го, когда вы родились?
– Необыкновенно интересным был 1989 год, когда перестройка вступила в силу.
Тогда оказалось, что все, что не запрещено на бумаге, – разрешено. Для нас
открылся весь мир, о чем мы, честно говоря, даже не мечтали. Я был уверен, что
так и не увижу этой планеты. А потом мы поехали в разные страны, и оказалось,
что нас там тоже знают. Мы приобрели колоссальный, бесценный опыт в
американских студиях, где работали. И оставалось только жалеть, что мы не могли
этого сделать на 20 лет раньше.
Как вы распорядились этим опытом?
– Сегодня вечером у меня концерт с «Машиной времени», завтра у меня концерт с
джазовыми музыкантами в одном небольшом клубе. Ночью я прилетел из Израиля, где
у нас был очень большой концерт на римской арене в Кесарии. У меня нет недостатка
в занятиях.
Ваши концерты всегда собирают в Израиле полные залы. Нет
планов переехать в Тель-Авив?
– Планы переехать жить, если в какой-то момент и возникнут, я их сразу
осуществлю. У меня нет промежутков между затеей и ее осуществлением. Но у меня слишком
много работы на родине: я тут родился, я тут жил, здесь огромная аудитория
людей, которым интересно то, что делаю я. Конечно, можно жить в Израиле,
который я очень люблю, и постоянно ездить в Россию на работу, но зачем тратить
столько денег на дорогу?
Лет 10 лет назад вы говорили, что вам интереснее
слушать музыку 1940-х, потому что сейчас больших открытий не видите. С тех пор
что-нибудь изменилось?
– Нет. Пока синусоида идет вниз. Для того чтобы она опять пошла вверх, нужно
прожить еще несколько лет, и я надеюсь их прожить. Все развивается волнами, и с
музыкой сейчас так же дела обстоят. Джаз 30–50-х годов – это верхний пик, в
моде были очень правильные вещи. Очень высокая планка исполнительского
мастерства, красивые мелодии, хорошие голоса, виртуозная игра на инструментах и
замечательные аранжировки. Эта эпоха оставила нам невероятное количество
музыки, которая звучит до сих пор и дает 100 очков форы тому, что делается
сегодня.

Поэтому вы и взялись за проект «Идиш-Джаз»?
– Да, для меня это было
скорее историко-культурологическое исследование, и я думал, что это очень
специфический проект. Не для всех он, а для любителей. Но и в Америке, и в
Европе, и в Израиле публика приняла его значительно лучше, чем я предполагал. С
помощью нашего аранжировщика и пианиста моего любимого, Жени Борца, раскопали
такие песни, которые у старшего поколения вызывают просто резонанс и вибрации.
Сегодня эти песни уже никто не исполняет, молодежь их не помнит. И еще: я,
конечно, подозревал, что еврейские композиторы написали большое количество
великих джазовых стандартов, но не думал, что такое количество. Мы уже два
альбома записали на эту тему. Можно было бы выпустить «Идиш-Джаз-3»,
«Идиш-Джаз-4», но просто я не хочу ограничиваться этим направлением.
В автобиографии вы пишете, что когда впервые услышали Beatles, у вас было ощущение, будто
вам вату из ушей вытащили. Это необычная форма комплимента. Какой самый
необычный комплимент вы слышали в свой адрес?
– Я не занимаюсь сбором комплиментов, мне хватает чувства самоиронии, чтобы к
этому относиться достаточно критично. Мне достаточно собственных оценок того,
что я делаю. Я все равно лучше других знаю, что у меня получилось хорошо, а что
вышло не очень.
Вы говорили, что считаете передачу «Смак» своим «самым
рок-н-ролльным поступком», потому что вам жалко и смешно смотреть на людей,
которые становятся рабами собственного образа. Сколько образов у вас было и
какой следующий на очереди?
– Никаких. Я никогда не пользовался образами, всегда выглядел так, как выгляжу
на данный момент, потому что не считал, что это имеет какое-то значение.
Значение имеет то, что я делаю, и то, как у меня это получается. Я не
костюмированный артист. Что касается следующего проекта на очереди – они сами
решают, как появляться и какими им быть. Когда меня что-то начинает сильно
интересовать, я начинаю этим заниматься.
Вас часто называют трудоголиком. При такой высокой
продуктивности вы успеваете осмысливать свое творчество?
– Я с трудом представляю
себе человека, который занимается творчеством, не включая при этом голову. Я бы
ему сильно завидовал. Потому что эмоции и впечатления – это тоже здорово и тоже
интересно. Я, к сожалению, не умею отключать голову, поэтому осмысливание у
меня происходит в процессе работы, а не потом – вроде «Ой, чего я тут
натворил». Я думаю и делаю одновременно.
Вы думаете, что нужно защищать животных, при этом без всякого сожаления рассказываете, что однажды в Домбае осознанно ели собаку. – Я противник всякого рода ханжества. Я против убийства собак с гастрономической целью. Только вчера подписал петицию против фестиваля поедания собак, который проходит, кажется, в Китае. Но вот ту собаку уже убили и приготовили. Я никогда в жизни не пробовал собаки, во всяком случае, если и пробовал в каких-то советских заведениях, то не догадывался об этом. Надо было эту нишу как-то заполнить в целях познания. Давайте реально смотреть на вещи: оттого, что мы ее «выбросим», собака не оживет. А вот следующую убивать не надо.

Почему вы перестали говорить про политику, хотя раньше
делали это довольно часто?
– Во-первых, я терпеть ее
не могу. Стараюсь не заниматься вещами, которые не доставляют мне удовольствия.
Очевидно, какое-то время я полагал, что можно что-то изменить. Пока я не вижу перемен,
а если они и будут происходить, то вызваны будут другими причинами, а не моими
письмами президенту или моими выступлениями на страницах газет. Я понимаю, что
жизнь коротка, и лучше заниматься своим делом и делать его честно. А потом –
настолько надоело говорить об очевидном.
Тогда напоследок о неочевидном.
Вы росли в светской семье, а потом
приняли православие. Остается ли в вас что-то еврейское? Что такое вообще для
вас еврейство?
– Это что-то, что находится в крови, что-то, что связывает тебя с твоими
предками, с их иногда жуткой историей, с евреями по всему миру, с твоими
друзьями, со страной Израиль. Я продолжаю оставаться нерелигиозным человеком,
как бы меня ни осуждали и ни пытались в это дело увлечь. Что касается моего
христианства – это была забавная история. Моим крестным отцом был протестант, а
занимался этим делом православный батюшка, и они прямо в процессе обряда
устроили дискуссию, про меня на время забыли. Так что не знаю, насколько у них
это крещение получилось. О чем я не особенно сожалею – мне было страшно
интересно.