Доктор медицинских наук Лев Щеглов – известный сексолог и психотерапевт,
а параллельно – писатель и актер, сыгравший в «Улице разбитых фонарей». В
эксклюзивном интервью корреспонденту Jewish.ru он объяснил, что такое еврейская
меланхолия, как она может довести до импотенции и почему тревожность – это
иногда хорошо, а еврейская мама – всегда сложно.
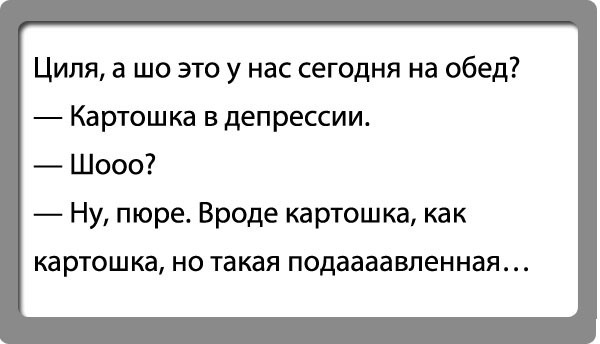
Различаете ли вы сексуальные
проблемы по национальностям? Есть ли чисто еврейские?
– Насморк,
плоскостопие и нарушение эрекции никак не могут быть связаны с национальностью
– у всех все одинаково. Но психические реакции, то есть особенности душевной
организации – это совсем другое. И вот они очень даже могут быть окрашены
национальной самобытностью. Исторический путь, генетическая память, сказки,
которые рассказывают родители в раннем детстве, – это все формирует в евреях
большую склонность к тревожности. Классические немецкие психиатры говорят об
очень своеобразной Jewish melancholy – еврейской депрессии, подавленности, тоскливости. Если
возвращаться к проблемам сексуального толка, то эта национальная самобытность в
конкретных болезненных симптомах не проявляется, но сам сексуальный процесс
окрашивает.
Что это за сказки, от которых дети
вырастают тревожными?
– Под сказками я
имею в виду не книжечки. Если сегодняшних евреев спросить – никаких еврейских
сказок они не знают и не читали. Под сказками я имею в виду истории жизни дедушек,
бабушек. Родители убеждены, что они этими сказками оберегают своих детей. Такое
постоянное: «Будь умнее, чем Вася Петров» – и не для того, чтобы большего
достичь, а чтобы хотя бы с этим Васей сравняться, так как изначально у тебя
меньше шансов, чем у Петрова. Вроде как: если ты рожден одноногим, ты должен
знать, что бегать на длинные дистанции с одной ногой странно, что нужно
выбирать другое, что со временем у тебя будет протез. Взрослые полагают, что
они поступают правильно. Ну, и в этом действительно что-то есть. Тревожность и
повышенная рефлексия в чем-то снижают качество жизни для человека, а в чем-то
создают довольно сильное своеобразие.
С одной стороны, да, тяжелее жить. И это как бы минус. Но знаете, самые
счастливые – это растения. Так что здесь и плюс – жизнь более тяжелая, но и более
интеллектуальная. И для тех, кто понимает, это более привлекательно. Условно
говоря, одну барышню еврейский юноша – тревожный, много размышляющий –
отпугивает. Куда прикольнее ровный и спокойный организм: поел – счастлив, денег
побольше достал – тем более счастлив, поплясал, лег спать. А для другой барышни
эта тревожность может быть очень привлекательным моментом. Если упадет
алюминиевая кружка – даже вмятинки не останется, но если упадет хрустальный
бокал – разлетается вдребезги. И всё же большинство людей хотели бы в руках
держать хрустальный бокал, а не алюминиевую кружку.

Можно поподробнее про эту Jewish melancholy?
– Еврейская
меланхолия – не диагноз. Это некое замечание, что депрессия случается у евреев
чаще, чем у других. По крайней мере, так было в XIX веке, когда появилось
определение. И меланхолия эта окрашена постоянным чувством вины, чувством
тревоги, страхом за будущее, попыткой найти выход, хотя вроде бы ничего не
происходит. Человек все время сомневается. Все ли я делаю правильно? Адекватно
ли я выгляжу со стороны? Постоянно повышенный самоконтроль. Это сказывается и
на сексуальной жизни. Оценка того, что делается условно на четыре-пять баллов,
будет ощущаться как что-нибудь, тянущее от силы на два-три балла. Можно себя
загнать в угол, довести до нарушения потенции, но до этого все-таки редко
доходит. В основном же это как раз стимулирует человека совершенствоваться в
сексе. Неслучайно возникают вот такие анекдоты.
Мужчина едет в поезде с привлекательной женщиной:
– Богат ли ваш сексуальный опыт?
– Очень богат – я путешественница.
– И какие же партнеры самые привлекательные?
– Индейцы – они дети природы, страстны, темпераментны. И в то же время евреи –
потому что они стараются понять не только себя, но и женщину.
– Кстати, я же не представился: Авраам Чингачгук.
Это анекдот, но в нем есть соль.
Как вы вообще умудрились стать
сексологом в то время, когда требовалось специальное разрешение для того, чтобы
просто взять Фрейда в библиотеке?
– В медицину я
попал случайно, я не испытывал никакого интереса к точным наукам, хотел
поступать на философский. Но мой дядя тогда сказал мудрую вещь, которая тогда
мне показалась глупостью, конечно: «Врач – и на зоне врач». И я стал заниматься
психиатрией. Наблюдая психику человека, я увидел, что сексуальные переживания,
действия и фантазии занимают много места в психике – меня это заинтересовало и
сконцентрировало.

И что мама сказала насчет вашего выбора?
– У меня мама была
тихая и деликатная. Хотя проблем я ей доставлял много со своей бурной юностью.
Думаю, если бы я стал инженером или вообще кем угодно, она была бы точно так же
счастлива. Вот это и есть материнская любовь, но не гипертрофированная. Потому
что обычно в любви еврейской мамы к сыну есть гипертрофия: сыну 65, а мама его
по-прежнему кормит с ложечки супом. Для людей в обыденной жизни это, может, и
хорошо. Это будет оцениваться только позитивными характеристиками, вплоть до
того, что она свою жизнь положила ему под ноги. На наш профессиональный взгляд –
это катастрофа, это гипертрофия, это уродство. И вообще, своя жизнь, положенная
добровольно кому-то под ноги, – это всегда катастрофа.
Когда вы сами осознали, что вы
все-таки еврейский мальчик?
– Я рос в районе
Обводного канала, тогда это был специфический район – он еще не был одет в
камень, там был песок. Мы прутиком вылавливали из воды презервативы, видели,
как на канале с баяном водяру бухали. В общем, там был зоопарк. Так вот, я был
маленький, худенький, много болел и во двор вышел поздно: мама боялась
выпускать. А когда вышел – пошло-поехало: сразу обозвали жидом. Пришлось дома
узнавать, что это значит. И это, конечно, предопределило кое-какие черты –
потому что какое-то время я дружил только с парнями вроде себя. У меня был друг
Валера, его во дворе дразнили Жиромясокомбинат, потому что он был толстенький.
И еще один был кривоватый, Коля, хромал. Вот наша троица. В принципе, как бы
отверженные. Но как раз из-за этого все трое кое-чего и добились в жизни. А
могли и сломаться.

Как так получилось, что вы –
психолог и сексолог – снимались в «Улице разбитых фонарей»?
– Это просто
придурь такая была. Вот завтра вас люди симпатичные позовут играть в футбол, и
вы сходите, но это же не значит, что вы футболист. Хотя, конечно, когда Михаил
Жванецкий говорит, что я очень остроумный человек, меня это греет. Но, конечно,
я не артист. Для меня было интересно погрузиться в процесс: как работает
камера, гримерка. Это было любопытство, я его удовлетворил. Но искренне себя
артистом не считаю, хотя сыграл в пяти фильмах. Я и писателем себя не считаю,
хотя и написал 21 книгу.
Гордитесь?
– Скорее, радуюсь,
что многое попробовал. Это вроде адекватная оценка. Хотя в принципе нужно
всегда критическое мышление, важно всё подвергать сомнению. Интересно ведь, что
тысячелетия идут, а внушаемость людей, способность без критики воспринимать
любые дикие призывы и идеи, готовность толпы к агрессии: «Бей этих и жизнь
наладится!» – одна и та же, не важно, житель ли это первого века или двадцать
первого. Поэтому, если хочешь быть личностью, у тебя должно быть критическое
мышление.
И как его запустить?
– Во-первых,
проявлять любопытство к знаниям. Те, кто читают, менее барановидны, чем те, кто
поглощают информацию из телевизора. Конечно, везет тем, у кого было воспитание –
все мы родом из детства, и иногда то, что оттуда тянется, будет всю жизнь
сопровождать. Затем нужно стараться общаться с тем, кто выше тебя – не ростом,
а духом, в самом крайнем случае – с равными, но никогда не с низшими. Это может
звучать высокомерно, по-снобистски, как угодно, но это величайшая правда: если
ты не хочешь быть человеком толпы – не общайся с толпой. А толпа – это
большинство. Я жесток в суждениях, но справедлив.
Беседовала Полина Шапиро


















